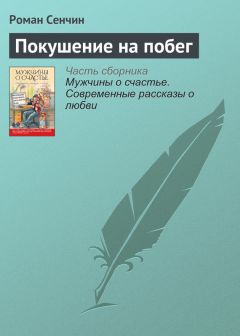— С чего мы с вами начнем?
— Как с чего? — с возмущением вмешался в разговор заключенный с нарукавной повязкой. — Известно с чего. Соберем совет коллектива и до отбоя ему такую баню устроим, чтоб вся дурь из него с потом вышла. Не поможет — в штрафной изолятор послать, чтоб горячка прошла.
Начальник отряда не отрывал проницательного взгляда от лица бригадира Балаева, будто впервые видел глубокий шрам над его правым глазом.
Второй заключенный, по фамилии Леус, лениво усмехнулся.
— А что думает наш председатель?
Леус, сжав рукой и без того короткий подбородок, не спеша процедил:
— При чем тут горячка? Это зря. Перед нами человек. Давайте потолкуем практически: многих ли исправил штрафной изолятор?
Я презрительно посмотрел на заключенных.
— Больно уж много у вас советчиков, гражданин начальник. Покойной ночи!
Я повернулся, чтобы выйти, но Дильбазов снова остановил меня.
— Нож оставьте у меня, он вам не нужен, — сказал он.
Это было неожиданно. Поборов минутную растерянность, я ответил:
— На пушку берешь, начальник!
— У нас с вами много встреч впереди, — ответил старший лейтенант спокойно, — успеете еще притворяться. Положите нож на стол.
Я неожиданно потерял самообладание.
— Вон какие руки у тебя длинные, обыщи!
Я с ненавистью смотрел то на бригадира, то на председателя совета актива. Это было их рук дело, только их!
— Возьмите, гражданин отрядный, — я положил на стол охотничий нож. — Если я захочу, у меня будет другой. Но у вас со мной ничего не выйдет! Так и знайте.
— Покойной ночи, — попрощался Дильбазов с бригадиром Балаевым и Леусом.
После минутного молчания он обратился и ко мне:
— Вы свободны, гражданин Пашаев. Бригадир выделит вам место…
Я провел эту ночь, как уже прочно обосновавшийся на новом месте жилец. Настало время подъема. Это было уже третье утро в колонии. От вчерашней уверенности и следа не осталось. Почему, я и сам не знал. Что-то меня мучило. И вот я стал думать — о себе, о своем отношении к преступной жизни.
Когда в разгар войны я попал на завод, то подружился с тем человеком, о котором выше уже говорил, с Ишхановым. Годами он был старше меня на много, лет на пятнадцать. Я никогда не думал что можно дотронуться до чужого добра: а вот понадобилось всего несколько месяцев, чтобы я стал квартирщиком… И еще каким!
Сначала его отношение ко мне я понимал по-своему, думал, мало ли на свете добрых людей! Да иначе и понимать не мог. Ведь он в эти тяжелые полуголодные годы делился со мною последним куском. Часто рассказывал мне о своей тяжелой судьбе. Затягивал меня в свои тенета все больше и больше.
Проходит время и я начинаю понимать, с кем имею дело. Но тут заговорило ложное чувство «благодарности». Подкатил к горлу вопрос: чем я должен отплатить? И я особых приглашений на ждал. Даже сейчас тяжело вспомнить, как я впервые стал примечать, в какую квартиру легче проникнуть.
Говорят: «Дальше в лес — больше дров». Ежедневно меня трепала лихорадочная дрожь… Иногда на ум приходили отрезвляющие мысли: «…Стыдно, позорно, могут схватить, осудить». Страх, страх необычайный, необъяснимый. Но он заглушался нарочитым фатализмом, предопределенностью. «Ах, все равно жизнь пропащая, катись, пока катится. Где оборвется, там оборвется…».
Но проходили годы. И я уже по-другому стал думать о себе. «Раз ты, — рассуждал я, — воле других подчинялся, перед другими „добычу“ выкладывал, то почему теперь другие не должны выкладывать „добычу“ перед тобой? Пусть будет совсем наоборот». Ведь все воры служат одному неписанному закону: неведомая власть сильного над слабым, бывалого над новичком. И этой властью я в полной мере воспользовался.
А годы все шли и шли! Временами я стал оглядываться на прожитую жизнь. И задаваться вопросом: правильно ли я жил? Это мое душевное состояние, эти мои мысли были началом протеста человеческой совести против самоопустошения.
Я часто задумываюсь над вопросом: что предопределило мое исправление? Отрыв от прошлого? Мое личное желание? Неотступное стремление других исправить меня?
По моим подсчетам получается, что главное — это желание и стремление других перевоспитать меня. На меня действовал советский строй, новый уклад жизни, характеры людей, построивших социализм. Хотя я был запуган неписанными законами «кучки», а потом даже сам имел влияние на эту «кучку» воров, неотступное стремление советских людей исправить меня и оказалось той моторной лебедкой, которая стальным канатом вытянула меня из болота уголовщины…
За годы заключения я многим доставлял горечь. Но правда моей совести в том, что я стал сопоставлять жизнь ложную, эгоистичную, преступную, бесчеловечную с жизнью человеческой, прекрасной, полезной и нужной другим.
С начальником отряда мы встретились в гараже. Он вызвал меня в кабинет завгара. «Начинается, — подумал я. — Пойдут сейчас запугивания». Но этого не случилось.
Захожу. Он сидел за небольшим столиком, застланным листом тонкой грязной бумаги.
— Иди, — обращается он ко мне, — сбегай к начальнику картонажного цеха, попроси от моего имени лист картона. Видишь, наш завгар о таких вещах не вспоминает, пока окончательно не зарастет грязью.
И что вы думаете: я повиновался? Безропотно повернулся и пошел? Нет, я пустил в ход свои старые уловки.
— А я, гражданин начальник, новичок. Ни картонажного не знаю, ни его начальника, — ответил я, прикидываясь глуповатым.
— Язык до Киева доведет. Вам даже за зону выходить не придется.
«Ну, купил же, дьявол, — подумал я про себя, — с ходу хочет заставить угодничать». Но начальник не давал никаких поводов к неповиновению. Я вынужден был повернуться и выйти.
Как только я покинул начальника отряда, во мне заговорила гордость. Без особых головоломок нашел выход.
Смотрю, желторотый паренек вытирает машину. Подхожу к нему и говорю:
— Отрядный велел сбегать к начальнику картонажного цеха и попросить листочек картона, чтобы стол застелить.
Повезло. Желторотый молча положил на крыло машины засаленную тряпку и пошел.
Гляжу, он уже прибегает обратно, таща под мышкой рулон картона и, не мешкая, влетает в кабинет к начальнику. Прошло какое-то время. Я бесцельно слонялся от одной машины к другой. Вдруг слышу сзади:
— Отрядный нас с тобой вместе приглашает.
Посланца я узнал сразу. Мы с ним повстречались еще в первый вечер. Тогда между нами состоялся не совсем дружеский разговор.
Старший лейтенант Дильбазов пригласил нас сесть. Признаться, с этого дня между мною и начальником отряда началось психологическое состязание, причем, каждый из нас терпеливо надеялся на свою победу.
— По приказанию начальника колонии, — говорит мне Дильбазов, — вас зачислили учеником моториста. Учиться будете у заключенного Дурсунова Искендера. Дело он знает и по натуре спокойный. Правда, иногда любит делать ставку на кулак. Мы этого не одобряем. Он строго наказывается за это. Но заскоки бывают… Собственно, за это именно ему и пришлось дважды расплачиваться свободой.
Дурсунов, мой будущий мастер, попросив у старшего лейтенанта разрешение, закурил. В его замасленных грубых руках сигарета сразу потеряла свой первоначальный цвет. Пучок заметно поседевших усов придавал ему вид силача.
Дурсунов заговорил порывистым, грубым голосом:
— Вы, гражданин старший лейтенант, правы. По воле закона я повинуюсь вам и не обижаюсь, когда вы справедливо мне указываете. Пусть молодой человек (Дурсунов явно имел в виду меня) не удивляется, что мы (теперь он имел в виду себя) будем рассуждать откровенно. Гляжу на вас обоих и прикидываю в уме: они, наверное, ровесники, почему же один из них на фронте воевал, образование получил, да еще за трудную работу взялся, а другой… И в моей жизни — не буду таить — бывали грешки. До Советов родня в крайней бедности жила. И все же, как говорят, бог не обидел, все здоровыми были. Мне за пятый десяток перевалило, но ни одному молодому не уступлю. Когда первый трактор в наш район пригнали, я по этой профессии пошел. По вечерам буквы читать учился. Правда, когда писать приходится, посторонний едва ли разберется в моих каракулях. Но в своем деле инженеру не уступлю. В любом моторе разбираюсь. Все моторы МТС на моей шее держались. Когда пришлось с кулацкими сыновьями за землю драться, меня «Медведем» прозвали. И сейчас не обижаюсь. Вот натура у меня неладная. Когда вижу беспорядок, кишки переворачиваются.
Отрядный охотно, не отрывая глаз, слушал Дурсунова. Потом сказал:
— Вы, Дурсунов, так и ученика своего перепугаете.
— Не на пугливого напали, гражданин начальник, — заносчиво ответил я.
— Не в гонорах сейчас дело, — заметил Дурсунов. — Об учебе надо думать. И моя натура по-новому пошла, от кулака отказываться начал. До седин дожил, опомнился, что настоящий кулак — это коллектив.
![Акпер Акперов - Незримый поединок [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/264439/264439.jpg)